Опасность электроники. Не все ведь штыки были в лицо
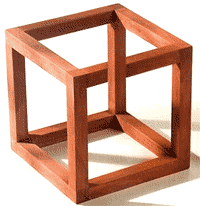
В наше вусмерть политизированное время пафос не моден, и, как правило, неприятен. В Песне о Соколе великого пролетарского писателя тепловлаголюбие Ужа куда больше привлекательно, чем пижонская спесь, вплоть до ломания собственных перьев, да и самой жизни его оппонента. Это — понятно. И все же …
Говорят, что последний пакет репрессий был в тридцать седьмом.
Правда ли, что последний пакет репрессий технарей был в тридцать седьмом? А после войны были «ожоги»?
Вот моего родного отца, Троицкого Георгия Николаевича, забрали навсегда в начале сорок первого, когда ему было двадцать шесть, а мне — один год. Можно понять прекрасное классовое чутье: ну не мог быть Нашим человек, владевший четырьмя европейскими языками, кандидат технических наук, автор только что вышедшей в Ленинградском Политехническом институте большим тиражом книги в 300 страниц с подозрительным названием «Свойства чугуна». Ведь в этой книге ни разу не было упомянуто имя товарища Сталина, что было позже отмечено в личной официальной характеристике отца.
Да еще у него был пунктик: не имея на то никаких особых разрешений, носился со своим изобретением нового нотного письма, и все это при том, что в родне его никак не пахло зачетным пролетарским происхождением: все мужчины поголовно были ведущими инженерами-строителями, причем последних из них забрали уже по тридцать седьмому.
А вот мне — случайно единственно недобитому последышу этой семьи — повезло. Я остался. Даже вырос и выучился на инженера. И сегодня согласен с человеком совершенно другой стаи — артистической — мудрецом и поэтом Леонидом Филатовым: «Не могу похвастаться, что мне что-то запретили или в чем-то меня ущемили большевики. Потом уже…были какие-то ожоги. Но это ерунда … не все ведь штыки были в лицо… Была все же некая идиллия по-советски…»
В «почтовом ящике» или, как позже его стали называть, ВНИИМР (Мощного Радиостроения), куда я был распределен в шестьдесят пятом году после окончания Ленинградского института Авиационного Приборостроения, такая идиллия определенно была и созидалась она группой талантливых фанатиков-работоголиков. Их упорство, самопожертвование и амбиции были чисты и притягательны: они рождали самую передовую умопомрачительно изощренную и дорогую технику того времени — сердцевину ускорителей заряженных частиц и локационных станций, включая уникальные, крупнейшие в мире. Это было чертовски интересно — настоящая мужская игра с полной выкладкой сил.
Боготворимые мной ведущие разработчики считали нормой работать по двенадцать часов в день при шестидневной рабочей неделе. Все они были удивительно самодостаточны и материально бескорыстны, одеты бедно, часто неряшливо, но бытовая нищета их как-то совершенно не тяготила. Моему обожаемому наставнику Виктору Васильевичу Екимову казалось смешным, что, кроме работы, можно иметь в жизни еще и какое-то хобби.
На этих людей я смотрел с завистью и восторгом. И мне, молодому специалисту, очень хотелось найти среди них своего научного шефа. Но судьба распорядилась иначе. Я так и не смог пристроиться к чьей-нибудь толковой научной школе. Может, немалую роль в этом сыграла моя ершистость, необоснованно большое свободолюбие да и грешное нежелание заниматься рутинным трудом.
Поэтому, наверно, решив, что меня все равно не исправишь, начальство стало мне давать небольшие самостоятельные работы, преимущественно исследовательские. Разумеется, я их вел не один, но всегда получалось, что, вне зависимости от административной структуры, в них так или иначе оказывался неформальным лидером. Это требовало постоянного напряжения. Целыми днями я пребывал погруженным в технические идеи, полюбил вкус научных исследований, непрерывным потоком стал писать технические статьи и заявки на предполагаемые изобретения: благо все было новым.
Для моего самоутверждения казалось значительным, что однажды мою фотографию вывесили на доску почета с подписью Лучший изобретатель института. Из творческого стресса я не выходил даже, когда бежал пописать в туалет, доброжелательные коллеги мою зацикленность с пониманием поощряли улыбкой. Каждое утро я шел пешком на работу от площади Льва Толстого до Одиннадцатой линии Васильевского острова, и это время было для меня самым творческим и блаженным. Мозг работал чисто, с полной отдачей, «таков мой организм…». С соисполнителями у меня всегда были хорошие дружеские отношения, особенно со старшими по возрасту инженерами-практиками, незабвенными моими товарищами, кристально доброжелательными идеалистами — Павловой Тамарой Борисовной и Калиной Леонидом Антоновичем. Руководству старался — насколько хватало ума — особенно не перечить. Наверно, в моей жизни это время было не самым производительным, но зато самым прекрасным: молодость плюс, как говорят в технике, — работа на согласованную нагрузку!
Хотя, если попытаться быть предельно откровенным, до меня иногда со стороны доходили и сентенции вроде того, что вот мы мол — работаем, не покладая рук, перевыполняем план, «кровью харкаем», а этот гад — изобретательством занимается. В какой-то степени это имело место быть тоже.
И, может быть, не без связи с этими настроениями лет через десять, когда не только из газет стало ясно, что роль партии в коммунистическом строительстве усилилась, у меня не обошлось и без вышеназванных ожогов. Например, официальное лицо в долгой беседе указало мне, что я неверно понимаю роль отдельных съездов Партии. То обстоятельство, что я не собираюсь вступать в эти «глухие согласные = КПСС», не имело существенного значения… Опять же, употребляю политически негативное слово «конвергенция», не понимая его значения.
Наконец, дело дошло до того, что в моей аттестационной характеристике, подписанной судьбоносным «треугольником», кроме унифицированной части в один лист, которая для всех писалась чуть ли не под трафарет, появилась нестандартная дерзкая запись, где указывалось, что я «недостаточно активен в профсоюзной деятельности». В вольном переводе с «новояза» это означало, что если и дальше буду такой же стервец, то на последующей аттестации влепят «негатив» более высокого уровня, например, что-нибудь в том смысле, что «личное ставлю выше общественного», то есть получу отрицательную характеристику, при которой окажется сомнительной сама возможность профессиональной деятельности. Подобные прецеденты с некоторыми моими коллегами уже случались.
До войны в подобной ситуации люди исчезали на несколько лет из Ленинграда в так называемую «провинцию» и там отсиживались.
Глеб Сташков объясняет это к тому времени назревшей операцией НКВД «Бывшие люди» .Тогда «в течение месяца из Ленинграда в места не столь отдаленные выехали 11072 человека, 4592 — главы семейств, 4393 из них расстреляны в
1937-1938 годах».
Но я, слава Богу, уже жил в дни чуть ли не цивилизованного «развитого социализма», хотя по злобно-вражескому и «реального». Зубки чуток сточились. Нашим тогда уже казалось неприличным без разбора не только уничтожать, но даже и, смешно сказать, сажать людей, поэтому мне во избежание всех грядущих неприятностей вполне достаточно было просто сменить место работы. Так я быстренько и сделал, тем более, что из-за ограниченности средств на медицину моя бетатронно-медицинская тематика по борьбе с раком на неопределенное время замораживалась. И стал продолжать дальше заниматься своей любимой рекуперацией энергии в индуктивных нагрузках и формированием мощных импульсов, но уже в другой, более военизированной, а потому — с меньшими финансовыми проблемами конторе. Работал, пока не оформил все, что напридумывал, в кандидатскую диссертацию.
Петр Новыш -Санкт-Петербург

